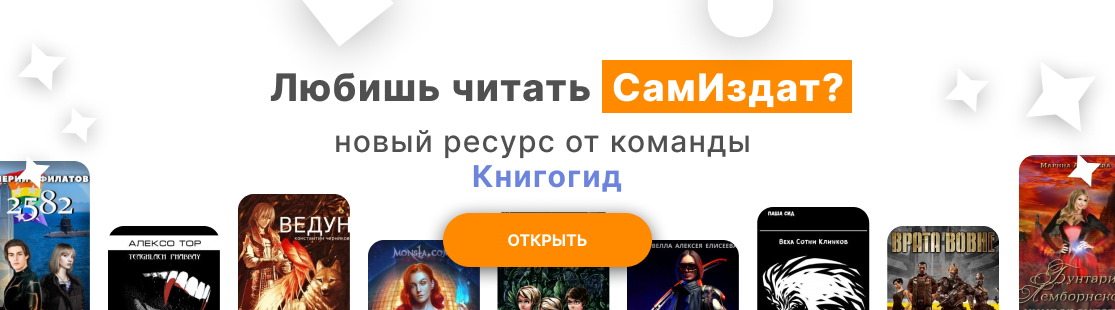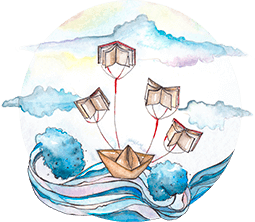Читать онлайн «Наша восемнадцатая осень»
Автор Николай Внуков
Николай Внуков
Наша восемнадцатая осень
Есть селение Эльхотово в Северной Осетии на Кавказе. С двух сторон оно сжато Сунженскими горами, Белые саманные домики под черепичными крышами тонут в садах. Канавы и пустыри заросли конским щавелем и крапивой. За крайними домами ворчит, перекатываясь через камни, Терек. А в самом селении тишина. Изредка прогрохочет по шоссе: грузовик с кузовом, до краев наполненным желтыми кукурузными початками. Пронесется пассажирский автобус. Промчится по одноколейке железнодорожный состав на Орджоникидзе. Качнутся под ветром тонкие седые тополя, и снова — тишина, горы, солнце… Ребята, играющие в долине Терека за селением, часто выкапывают из земли винтовочные гильзы, перержавевшие обоймы и скрученные, зазубренные кусочки металла. Только по рассказам дедов они знают, что это — следы того боя, который прогремел над селением в сентябре 1942 года. Много лет спустя мне вновь довелось побывать в тех местах, пройти по долине Терека, постоять на новом мосту, увидеть те горы, и я вспомнил, как все это было…
Светлой памяти школьных моих товарищей, не пришедших с войны
1
Я томлюсь у доски. Пишу доказательство этой несчастной теоремы, но получается не то, что нужно; стираю написанное сухой тряпкой и снова пишу, и с ужасом замечаю, что опять получается не то, и снова стираю. Белая меловая пыль носится вокруг меня, от нее щекотно в носу и першит в горле. Я весь в белом, как мельник. За спиной тревожно замер класс, затих Борис Александрович, А я снова пишу на доске какую-то белиберду и боюсь оглянуться, боюсь увидеть лица ребят и особенно — лицо математика.
Идет последний, контрольный опрос перед концом четверти.
Решается судьба самой важной для меня оценки. Решается — быть или не быть, И вот на тебе — так глупо, так примитивно попался, Ведь я наизусть знаю ее, эту теорему, Но рука почему-то выводит на доске глупые, скачущие строчки;В голове противный пустой звон, Ни единой мысли нет в голове, только эти проклятые строчки.
Что же это со мной творится, что?
В классе грозная тишина, Даже математик не приговаривает как обычно: «Так-так-так…» и не стучит пальцами по столу. Хоть бы застучал, хоть бы кашлянул, хоть бы скрипнул стулом…
А за окном уже вечереет и стоят печальные, поникшие клены на пустынном школьном дворе.
Только бы не увидел Борис Александрович то, что я вывожу на доске. Я пытаюсь заслонить написанное своим телом, стираю прямо ладонью, но пальцы, пересохшие от меловой пыли, издеваясь надо мной, снова выписывают:
Тишина сзади становится еще глубже, еще острее. От нее замирает тело, приостанавливается дыханье.
…А может быть, я схожу с ума?
Может быть, все ребята, и девчонки, и Борис Александрович видят это и оттого так страшно молчат?
Я сжимаю мел в кулаке и, глубоко вздохнув, оборачиваюсь.
Класс пуст.
Тусклые, затянутые пылью парты стоят тремя мертвыми шеренгами. Серой пудрой припорошен учительский стол, К нему плотно придвинут стул, залитый чернилами. На стене вместо портрета Ньютона картинка с двумя купающимися девочками и немецкой надписью: «Анна унд Марта баден». Кто ее принес сюда? Для чего? Никогда раньше в нашем классе не было этой картинки.