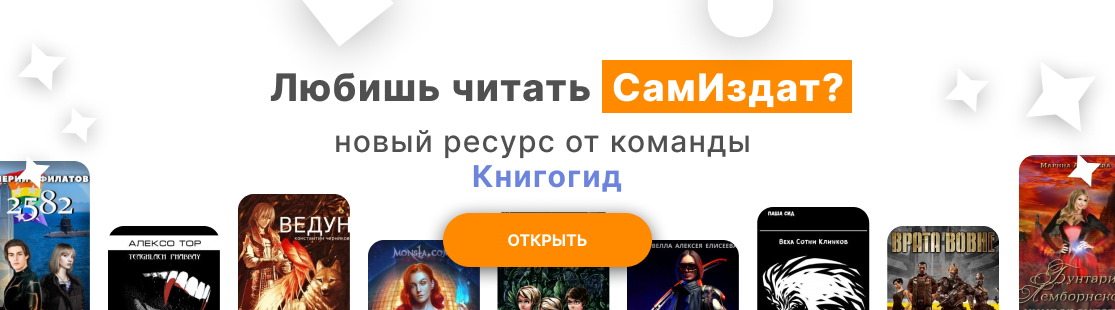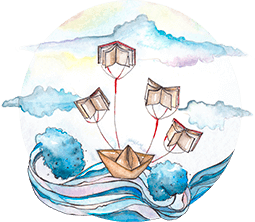Читать онлайн «Тихий пост»
Автор Анатолий Соболев
В условленный час пятый пост не вышел на радиосвязь. Штаб вызывал каждый день — ответа не было.
Прошла неделя, пост молчал.
И вдруг с метеостанции, находящейся в ста с лишним километрах восточнее «пятого», в Архангельск поступила радиограмма: «В т у н д р е п о д о б р а л и н а ш е г о м а т р о с а и н е м ц а. О б а б е з с о з н а н и я. С т а р а е м с я в е р н у т ь к ж и з н и. Ж д и т е с о о б щ е н и й».
Этот пост был одним из постов Службы наблюдения и связи, раскинутых по побережью Баренцева моря.
Бревенчатый домик с надстройкой в виде капитанского мостика с антеннами и прожектором напоминал выброшенный на берег корабль. С трех сторон к нему подступало море, с четвертой — безмолвная тундра на тысячи километров.
На посту несли службу шестеро матросов. Война не докатывалась сюда — фронт был очень и очень далек. И матросы роптали на свою спокойную службу. Они были молоды, нетерпеливы и хотели воевать, но командование держало их здесь, на перекрестке судоходных путей.
Начинался заснеженный и морозный сорок четвертый год. На всех фронтах наступали наши войска, и здесь, на посту, жадно ловили сообщения Совинформбюро.
Однажды радист Пенов, белобрысый застенчивый паренек, часами сидевший у рации, восторженно крикнул:
— Блокаду с Ленинграда сняли!
— Ура-а! — заорал всегда шумный Мишка Костыря и первым кинулся к карте, висевшей на стене.
Подошли и остальные матросы.
— Заняли города и населенные пункты… — начал было говорить Пенов и замолчал, одной рукой прижимая наушники к голове, другой стараясь отрегулировать слышимость рации.
— Да не тяни ты кота за хвост!
Мишка Костыря — подвижный, чернявый, коренастый крепыш — нетерпеливо глядел на радиста и держал в руке крохотные бумажные флажки.
Петя Пенов вспыхнул и захлопал белыми ресницами. Смирный паренек с телячьими доверчивыми глазами, он почему-то всегда смущался, когда к нему обращались. Наконец он отрегулировал слышимость и стал перечислять освобожденные села и города, а Костыря втыкать красные флажки на карту.
— Ого, густо! — полюбовался Костыря на скопление флажков вокруг Ленинграда и ослепил матросов белозубой улыбкой. — Теперь дело за Одессой. Жмем, кореша, по всем фронтам!
— Жмем, да не мы, — резонно заметил Виктор Курбатов, высокий красивый юноша с тонким, от природы смуглым лицом.
Костыря досадливо поморщился — он не любил, когда ему напоминали, что он не на фронте. А Пенов уже перечислял отличившиеся войска, отмеченные в приказе Верховного Главнокомандующего.
— Сегодня салют грохнут в Москве, — заверил Костыря. — Старшой вернется, надо с него потребовать по чарке в честь победы.
В это самое время старшина первой статьи Чупахин шел на лыжах по ровной заснеженной тундре, освещенной луной, и глядел на широкую полосу ледового припая, что тянулась вдоль обрывистого берега. За торосами чернело тяжелое море.
Чупахин не переставал удивляться: по часам был день, а все кругом — как ночью. И хотя Чупахин служил на Севере не первую полярную ночь, он все равно не мог привыкнуть к тому, что в часы, когда по всем законам должно светить солнце, светят луна и звезды.