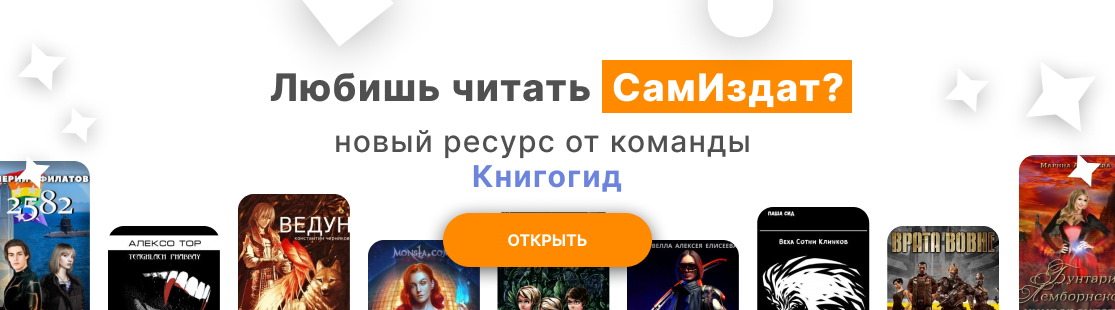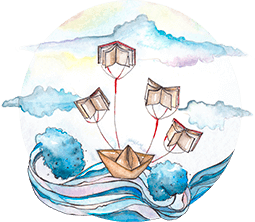СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
Собрание сочинений в 4 томах. Том 2
«У Довлатова была гениальность, если использовать это слово не в дурацком смысле литературной табели о рангах, а в прямом значении, — способность к творчеству не благоприобретенная, а врожденная, закодированная в генах».
Лев Лосев
«Это был — я знал об этом и прежде, но теперь с особой остротой почувствовал — самый близкий мне из современных писателей, то, что называется свой человек в литературе. И думаю, что это мое отношение уже сегодня разделят тысячи, а в скором времени, может быть, и сотни тысяч читателей. У него был талант особого рода — талант прямого разговора с читателем, так что каждый мог его считать своим и только своим».
Юрий Карабчиевский
«Довлатов сразу и до конца понял, что единственные чернила писателя — его собственная кровь. И тот, кто пишет чем-то другим, просто обманывает: или служит, или — развлекает.
…Любовью Довлатова мы любим всех — и охранников, и зэков. Довлатов, рискуя собой, брал крайности жизни и соединял, очеловечивал их, наполнял прелестью. А без этой прелести — снова вражда, снова война».
Валерий Попов
Зона
(Записки надзирателя)
Имена, события, даты — все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны.
Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным.
Автор
Письмо издателю
4 февраля 1982 года. Нью-Йорк
Дорогой Игорь Маркович!
Рискую обратиться к Вам с деликатным предложением. Суть его такова.
Вот уже три года я собираюсь издать мою лагерную книжку. И все три года — как можно быстрее.
Более того, именно «Зону» мне следовало напечатать ранее всего остального. Ведь с этого началось мое злополучное писательство.
Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно трудно. Мне, например, отказали двое. И я не хотел бы этого скрывать.
Мотивы отказа почти стандартны. Вот, если хотите, основные доводы:
Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта…
Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование?
Да и книги наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я — уголовные. Солженицын был заключенным. Я — надзирателем. По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами…
Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования. Солженицын — великий писатель и огромная личность. И хватит об этом.
Другое соображение гораздо убедительнее. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является.
Это — своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов.
Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. Декларируется в общем-то единственная банальная идея — что мир абсурден…
Издателей смущала такая беспорядочная фактура. Они требовали более стандартных форм.