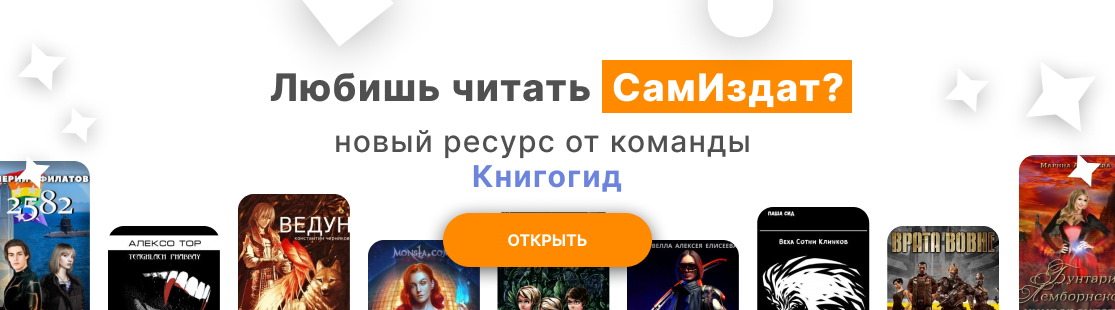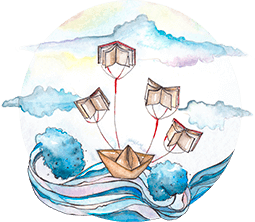Читать онлайн «Репетиция в пятницу»
Автор Анатолий Гладилин
Анатолий Гладилин
Репетиция в пятницу
Гладилин. Шестидесятник. Первый и последний
Как-то на углу улиц Лувр и Риволи, в витрине магазина разных причуд, увидал я оловянных солдатиков. Легионеры Цезаря, ополченцы Вашингтона, гвардейцы Наполеона и гренадеры Кутузова – офицеры, барабанщики, трубачи, знаменосцы, – построенные в шеренги и колонны, они являли образцовую композицию и стремились к ее центру.
В центре же стоял квадратный помост. А на нем – группа фигурок рядом с небольшим несложным сооружением. Рама. Доска. А перед ней – корзина…
Именно. В центре располагалась гильотина.
Не знаю – работала эта модель или нет. Но сделана была филигранно. Как и все с ней связанное. Эшафот, механизм, окровавленный нож, место жертвы, ящик для тела… Каждый элемент был отлит любовно и со знанием дела. Меж войсками и эшафотом имелось свободное пространство, в нем – оцепление в синей форме с пиками в руках. На краю эшафота – некто, держащий в вытянутой руке человеческую голову…
Это чудесно промытое окно располагалось в нескольких сотнях шагов от места, где некогда стояло это устройство, где окончили свои дни и безвестные жертвы, и герои, чьи имена хранит история.
История… Как много копий наломали об нее люди. И перьев – не меньше.
Уж так крепка. Иной раз слышу вопрос: зачем опять обсуждать темы и тени прошлых времен? Отчего не обратиться к нашему сегодня? Не взглянуть в умные лица и ясные глаза современников? Не отразить славный образ положительного героя на фоне героических панорам блистательных свершений?
Минутку.
Разве не этим заняты авторы художественных текстов, исследующие историю – хоть давнюю, хоть новую – ту, что по соседству, за углом? Они обращаются. И глядят. И отражают. Если убрать не так уж много значащие детали и рассчитать поЛюди мнили и мнят себя Бонапартами. И никто не ставит им диагноз. А разве мало считающих себя Сталиным? Скажете: хватит двух-трех? Да хоть одного… Зеркало эпохи – всегда кривое. Но и нас, и их оно отражает такими, какие мы на самом деле.
Мудрецы советуют: возьмите вашу историческую память, аккуратно просейте и извлеките из нее всё самое доброе, возвышенное и прекрасное. А после – злобное, гнусное и страшное. Прекрасное – увековечьте. А страшное… – не жгите. И на свалку не мечите.
Что с того, что оно воплощено в людях? Скажем – в террористе-мечтателе «неподкупном Робеспьере»? Или – в террористе-цинике «вожде народов Сталине»?
А обычную память пусть тешат изобретатели, первооткрыватели, артисты, герои…
Но – не выходит. Потому что история устроена так, что, едва заведем мы разговор о Робеспьере, тут же явится и Фуше. Заговорим об общественном благе – замаячит тень палача. Затрещат барабаны. Закричат санкюлоты. И женщины с пиками двинутся на Версаль…