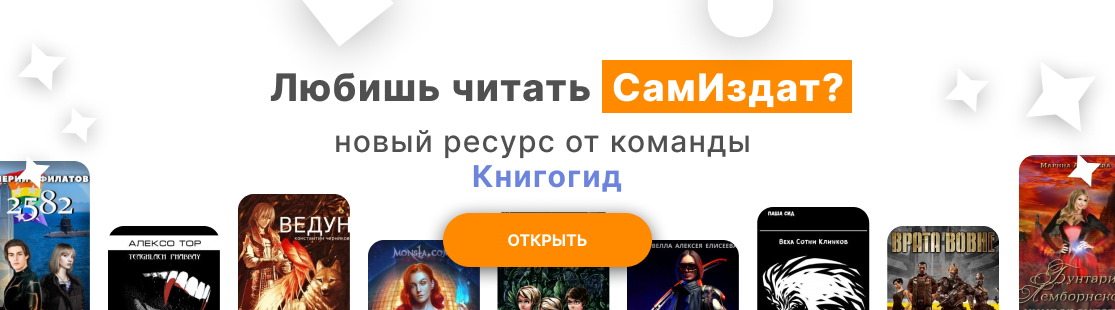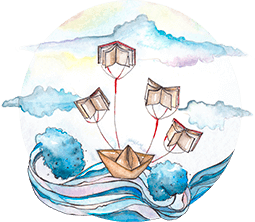Читать онлайн «Дом образцового содержания»
Автор Григорий Ряжский
Григорий Ряжский
Дом образцового содержания
Моей бабушке, Елене Марковне Гинзбург
Часть I
В эту ночь Розе Марковне Мирской не удалось разбудить Вильку истошным криком, который, зародившись однажды в девяносто восьмом, в тот самый год, когда не стало Митеньки, нередко будил его перед самым утром. Это потом, к началу следующего по счету века, крик этот ослаб, став редким, случайным и вовсе не таким уже пронзительным и страшащим. А самый первый крик зародился в углу девятиметровой комнаты, где размещалась ее, бабушкина, кровать красного дерева. Вилька точно помнил, что тогда было еще довольно тепло, но зелени во дворе их дома уже почти не осталось, а появилось сухое желтое и немного красно-бурого, и значит, была осень.
Гелькиных ушей крик, как правило, не достигал, но внука зато заставлял вздрагивать и открывать глаза. Звук пронзал квартиру насквозь, начинаясь от угла первого этажа, откуда улетал, истончаясь и гася по мере удаления воздушные колебания, в направлении центральной части второго, где когда-то Вилькин дед, покойный Семен Львович Мирский, оборудовал лишнюю спаленку, выгородив пустой стенкой часть жилого квартирного пространства. Пространство это начиналось сразу справа от лестницы, ведущей на первый этаж, и вполне для такой цели подходило. Правда, изначально подобное переустройство задумывалось с тем, чтобы там образовалась детская комната, но в итоге во все времена комната эта продолжала оставаться лишней, незанятой. Таня же, Вилькина мать и Бориса Семеновича Мирского жена, детскую вежливо отвергла, но даром строительные усилия главы семьи тоже не пропали.
Комнатка стала исключительно гостевой, для случайного и неслучайного размещения, исключая лишь Зину с дочкой, усердно портящей в те годы правильные русские слова своим смешным южнорусским выговором.К тому времени, приблизительно к началу пятьдесят пятого года, когда в общем живой, но не вполне адекватный дедушка Сема, маленький и усохший, словно укороченное огородное пугало с узкоплечей перекладиной, только-только вернулся из лагеря, а Вилен еще не успел народиться, дед уже пятнадцать лет как не состоял в списках академиков от архитектуры, поскольку полученный срок длиной в десять лет, сложенный позднее с еще одним недосиженным десятком, надежно избавлял его от такой научной повинности. Дело было и плохим и хорошим – как посмотреть.
От плохого и страшного оставался сам факт ареста по доносу в сороковом предвоенном году, а вместе с ним и ужас предстоящего куска жизни неизвестной продолжительности, учитывая, что к моменту ареста Мирскому исполнилось шестьдесят. Кроме того, полная невозможность обеспечить элементарную помощь в поддержании требуемого давления в дедовых глазах привела его зрение к невозвратной глаукоме и практически полной слепоте. Так или иначе, но ко дню возвращения из Магадана Семену Мирскому стукнуло семьдесят пять и из отличительных особенностей здоровья академика отметить можно было как все еще функционирующие лишь плохо маскируемое недовольство от свалившейся на голову непривычной свободы и неуемный нестарческий аппетит.